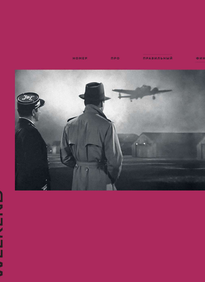Осенью 1924 года был опубликован «Манифест сюрреализма», с которого начинаются две истории: последнего «изма» в первом авангарде и самого влиятельного движения, метода, программы или образа мысли в культуре последних ста лет. Об основателях и последователях сюрреализма рассказывает Анна Толстова.
«Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений» — сто лет подряд бретоновский «Манифест сюрреализма», длинный, тягучий текст, смесь философского трактата и поэмы в прозе, парадоксов и афоризмов, дидактики и иронии, читают, чтобы выудить из поэтического потока сознания, временами прикидывающегося бессознательным, это словарное, как полагал автор, определение сюрреализма.
Хотя в потоке, помимо словарного определения, содержится масса ценнейших практических советов — с читателем щедро делятся «секретами магического сюрреалистического искусства». Например, «как привлечь к себе взгляд женщины, проходящей по улице»,— в чем в чем, а в той сложной области психического автоматизма, простирающейся от флирта до секса, какая и верно бежит контроля со стороны логики, этики и эстетики, сюрреалисты, вооруженные «оружием сексуального цинизма», были непревзойденными специалистами. Текст пестрит словами «сон», «сновидение», «дрема», «греза» — они открывают окно в реальность высшего порядка («Я верю, что в будущем сон и реальность — эти два столь различных, по видимости, состояния — сольются в некую абсолютную реальность, в сюрреальность, если можно так выразиться»). Что же до слова «революция», с которым вскоре станет ассоциироваться слово «сюрреализм», оно встречается всего один раз — и то в цитате из Жерара де Нерваля.
Конечно, «Манифест сюрреализма», столь непохожий на типичные образцы манифестного жанра, более лаконичные и лапидарные, как раз и демонстрирует реальное функционирование мысли со всеми его вывертами, провалами, озарениями, шумом и яростью. И все же, чтобы понять, что такое сюрреализм, надо принять во внимание не только словарное определение, не только этот и другие манифесты, но и всю историю движения, с рождения до растянувшейся на целый век жизни после смерти. И тогда станет ясно, что обвинения, будто бы сюрреалисты переводят революцию в плоскость сна и внутренней психической жизни, не вполне справедливы. Звук пощечины, которую лидер сюрреализма отвесит Илье Эренбургу незадолго до парижского Конгресса писателей в защиту культуры по причине эстетических и этических разногласий, отзовется долгим политическим эхом. Сюрреализм — это право на бунт человека мыслящего, следовательно существующего мятежно и вопреки, это перманентная революция мыслящей (и в некоторых изводах сюрреализма — одухотворенной) материи. Это «театр жестокости» Антонена Арто и паникерская психомагия Алехандро Ходоровски, это сексуальная революция, психоделическая культура и 1968 год, это «университетское свинство» венских акционистов и «райские» оргии Живого театра, это Джексон Поллок за рулем «олдсмобиля», несущегося на дерево, и Александр Бренер, кричащий «Чечня! Чечня!» в Елоховском соборе.
Манифест и манифесты
В октябре 1924 года в Париже был опубликован «Манифест сюрреализма» Андре Бретона, молодого поэта, уже заявившего о себе в авангардистских кругах — и как литератор, и как скандалист и предводитель банды таких же бретеров, готовых превратить любой вернисаж, банкет или премьеру в абсурдистский ералаш (сорок лет спустя это назовут хеппенингом). «Манифест сюрреализма» Бретона вышел отдельным изданием: предполагалось, что он послужит предисловием к сборнику автоматической поэзии «Растворимая рыба», но предисловие разрослось на полкниги, так что в конце концов сновидческие стихотворения в прозе из «Рыбы» стали восприниматься как иллюстрация к принципам сюрреализма. Хотя в тексте «Манифеста» и без того хватает примеров, взять ту же поэму, целиком составленную из случайных газетных вырезок (такой найденной поэзии до сих пор полно на выставках современного искусства). «Манифест» с «Рыбой» появились из печати в середине месяца, однако 1 октября 1924 года, то есть двумя неделями раньше, в Париже вышел первый (и последний) номер журнала «Сюрреализм», в котором был напечатан другой «Манифест сюрреализма» — Ивана Голля, поэта чуть постарше, писавшего по-немецки и по-французски, на двух главных языках дада.
Оба автора октябрьских манифестов претендовали, помимо первенства, на Аполлинерово наследство, вышли из дадаистской шинели и собрали сторонников в партии, настроенные друг против друга весьма воинственно — полемика непосредственно отразилась в текстах, возвещавших наступление сюрреализма. Партия Голля, который получил диплом юриста в Мюнхене накануне войны и пересидел ее в «Кабаре Вольтер», где окопались дадаисты — дезертиры-пацифисты, сопротивлявшиеся абсурдности мира, умножая абсурд,— не порывала связей с дада. Партия Бретона, парижского студента-медика, призванного в армию в начале 1915-го и до конца войны служившего в различных военных госпиталях, как и его ближайшие сподвижники Луи Арагон и Поль Элюар, перенесла дада в более легкой форме и ныне стремилась дистанцироваться от выдыхавшегося в послевоенные годы движения. Манифест Голля был куда короче и куда легковеснее манифеста Бретона — поэты шли к одной цели, искусству вне логики, эстетики и грамматики, но разными путями. Голль не находил места для «доктрины доктора Фрейда» в «поэтическом мире» и требовал не смешивать искусство с психиатрией — Бретона вела путеводная звезда психоанализа, и сновидение обнажало работу мысли без оков чистого разума. Зато оба сходились в одном пункте: Голль провозглашал «реванш глаза», эпоху поэзии, которая уходит от звука к образу. Поэтому важнейшим из всех искусств для сюрреализма становилось кино, в те годы еще немое,— во всем французском авангарде не сыщется текстов столь насыщенной визуальной образности, как у Бретона, недаром он искал вдохновения в кино, переходя с сеанса на сеанс без всякой системы и смотря фильмы кусками, чтобы они сложились в случайный киноколлаж.
Бретон, рано проявивший свой диктаторский нрав, приложит все усилия, чтобы остаться в истории автором единственно верных деклараций сюрреализма: «настоящие» сюрреалисты не заметят журнала и манифеста Голля, в конце 1924 года начнут издавать журнал «Сюрреалистическая революция», позднее Бретон напишет еще два манифеста сюрреализма. Второй, 1929 года, окажется наиболее радикальным, даст жесткую, в советском партийном духе, отповедь ренегатам и соглашателям и провозгласит единство поэзии и политики, сюрреалистической и социалистической революций. Робер Деснос, изгнанный из бретоновской партии как предатель, посмеет ответить на второй манифест Бретона собственным «Третьим манифестом сюрреализма», взывая к этике и гуманизму, и вдобавок вступит в партию Жоржа Батая, апологета «бесформенного», ставшего главным оппонентом Бретона в части теории и переманивавшего его любимых художников на свою сторону.
Партия Бретона, впрочем, сформировалась раньше, чем был опубликован его первый программный текст,— об этом свидетельствует «Встреча друзей», большая парадная картина Макса Эрнста, написанная в 1922 году, когда Бретон начнет избавляться от чар дада. Она-то и может претендовать на лавры самого первого манифеста сюрреалистов — и потому, что вся честная компания явлена на полотне во всей красе, и потому, что художнику, главному связному между дада и сюрреализмом, удалось посредством кисти и красок изложить творческие принципы и описать богемные практики движения, которое еще не успело толком оформиться.
Манифест до манифестов
«Встреча друзей» — фантасмагорический групповой портрет в тирольских и швейцарских Альпах, играющих роль Парнаса или даже Олимпа: на горных вершинах, словно в каком-то монпарнасском кафе, удобно расположились пятнадцать членов бретоновской группы и двое покойников. Все узнаваемы — некоторые лица вообще написаны так, как будто бы на холст наклеены газетные снимки: Эрнст уже признан как мастер абсурдистских коллажей, составлявшихся из книжных и журнальных иллюстраций прошлого века, многие сюрреалисты впоследствии будут ставить фотографию с ее автоматизмом и демократизмом выше живописи. К тому же все персонажи пронумерованы и имена их расшифрованы на двух картушах по краям холста. Мы видим этакий школьный групповой снимок богов-олимпийцев: одни рассажены на первом плане, другие расставлены за их спинами, еще двое вбегают в картину, как если бы опаздывали на съемку. Эрнст виртуозно прикидывается наивным художником вроде Таможенника Руссо: пейзаж условен, воздух выпит, фигуры картонные, позы и движения неловки, композиция готова развалиться.
Формально Эрнст и правда был самоучкой, но во втором поколении: его отец, школьный учитель, тоже был живописцем-автодидактом (и, кстати, часто писал портреты по фотографиям), так что запах мастерской был знаком ребенку с раннего детства — свою первую выставку он открыл, еще учась в университете на филолога и историка искусства. Не испорченный школой дилетант — идеальный художник сюрреализма, не зря одним из любимцев Бретона станет Ив Танги, матрос, по легенде, решивший заняться живописью после того, как увидел картину Джорджо де Кирико (на самом деле матрос был одноклассником Пьера Матисса, сына художника и в будущем влиятельного нью-йоркского маршана, который еще в школе поощрял интерес Танги к искусству).
Смысловой центр картины образуют трое жестикулирующих, как если бы они спорили, персонажей под номерами 9, 12 и 13: это Бретон в красно-коммунистическом шарфе (в 1927-м он вступит во французскую компартию, но покинет ее в середине 1930-х на фоне Московских процессов), Арагон в лавровом венке, обвившемся вокруг его талии, словно удав (или Эльза Триоле шестью годами позже), и Элюар, погруженный в глубокую меланхолию. Все изображенные на картине фигуры плотно пригнаны одна к другой, но Элюар демонстративно отделен от Бретона с Арагоном пейзажным интервалом, Бретон поднял руку, то ли благословляя Элюара, то ли протестуя против чего-то, что выглядит пророчески: в 1938-м троцкист Бретон, вернувшийся из Мексики, где вместе с Троцким работал над манифестом «За независимое революционное искусство», отлучит сталиниста Элюара, которого когда-то считал лучшим поэтом в группе, от сюрреализма. Во «Встрече друзей» вообще было много пророческого.
Эрнста с Элюаром связывают не только дружеские и творческие (они уже выпустили вместе две книги, в том числе протосюрреалистические «Несчастья бессмертных», где бесшовные коллажи Эрнста были проиллюстрированы стихами в прозе, которые Элюар и Эрнст написали совместно, обмениваясь открытками с фрагментами текста) отношения. Они познакомились год назад в Кельне, вскоре Эрнст бросил семью и уехал в Париж жить вместе с Элюарами, чьи апартаменты служили салоном и штаб-квартирой будущим сюрреалистам. В итоге нарисовался самый знаменитый в истории сюрреализма, вообще-то полной адюльтеров, ревностей и страданий, любовный треугольник: единственная дама, изображенная на картине,— это Елена Дьяконова, более известная как Гала, тогда — жена Элюара и любовница Эрнста, десять лет спустя — жена, муза и продюсер Сальвадора Дали. Одна на шестнадцать — и то не художница и не поэтесса, а спутница, помощница, вдохновительница — эта гендерная диспропорция прекрасно характеризует отношение сюрреалистов к женскому творчеству, хотя в выставках, сделанных с благословения Бретона, участвовало немало женщин — на правах живописного фона. За последние тридцать лет феминистки взяли реванш, множество имен художниц-сюрреалисток возвращено в историю искусства (с красавчиком Эрнстом, пользовавшимся большим успехом у противоположного пола, были связаны две из самых знаменитых ныне сюрреалисток, Мерет Оппенгейм и Доротея Таннинг), но сюрреализм по-прежнему сохраняет репутацию самого мизогинного движения в авангарде.
Остальные пронумерованные персонажи — Рене Кревель, Теодор Френкель, Жан Полан, Бенжамен Пере, Робер Деснос, Филипп Супо, Макс Мориз, Йоханнес Теодор Бааргельд, Ханс Арп, Джорджо де Кирико и сам Макс Эрнст. Нетрудно заметить, что литераторы преобладают над художниками — первоначально сюрреализм был по преимуществу литературным движением. В первом манифесте Бретона есть один иронический пассаж, где тоже описывается воображаемая «встреча друзей» в некоем замке под Парижем: на ней одни поэты, из художников приглашен только Жорж Малкин, правда, замок навещают Франсис Пикабиа и Марсель Дюшан, а в его окрестностях охотится Пабло Пикассо. Макс Мориз выступит в первом номере журнала «Сюрреалистическая революция» с программной статьей «Зачарованные глаза», где станет утверждать, что сюрреалистическая литература уже существует, а сюрреалистическую живопись и фотографию еще только предстоит открыть, для чего посоветует труженикам пластических искусств работать с широко закрытыми глазами или хотя бы с мешком на голове. Бааргельд, Арп и Эрнст образовали в 1919 году кельнскую группу дада, которая привлекла внимание Бретона, Арагона и Элюара, однако из кельнской троицы только Эрнст полностью обратится в новую веру — позвав своих старых друзей на эту альпийскую сходку, он несколько поторопился. Зато Пикабиа присоединится к группе Голля, так что Эрнст правильно угадал и не взял его на «Встречу друзей». Де Кирико же станет кумиром Бретона, его текст откроет первый номер «Сюрреалистической революции» (временами сюрреалисты ставили де Кирико — литератора едва ли не выше де Кирико — живописца).
Самого себя, самого привлекательного (тут он был абсолютно объективен) и самого нарядного, в зеленом, попугайского тона костюме, ироничный Эрнст изобразил восседающим на коленях у Достоевского: в бретоновском манифесте фрагмент «Преступления и наказания» будет цитироваться скорее критически — как образчик литературной инерции и плоского реализма, но Достоевский, психоаналитик до психоанализа, войдет в сюрреалистический пантеон, пусть и займет в нем место более скромное, нежели маркиз де Сад, Бодлер, Рембо, Лотреамон, Малларме, Жарри, Аполлинер или Ницше. В группе за спиной Достоевского можно увидеть еще одного неживого классика — Рафаэля. Это, пожалуй, самое загадочное явление в картине-манифесте: трудно представить себе что-то более далекое от бретоновского идеала «судорожной красоты», чем Рафаэль, и когда сюрреалисты примутся искать прецеденты сюрреалистического искусства в истории, то не гармония итальянского Ренессанса, а Босх послужит им точкой отсчета. Возможно, Рафаэль воплощает фигуру Отца, Академии, Разума и Порядка, разрыв с которыми был неизбежен. Во «Встрече друзей» видят пародию на «Афинскую школу» или другие фрески Станцы делла Сеньятура: известно, что первые дадаистские выставки в Кельне привели Эрнста к конфликту с отцом — отец Рафаэля боготворил и около десяти лет писал копию с ватиканского «Диспута».
Отец Эрнста учительствовал в школе для глухонемых детей — странная жестикуляция собравшихся на «Встречу друзей» похожа на язык жестов, но расшифровке не поддается, скорее это декларация о намерениях говорить на принципиально новом языке искусства. Сцена в горах происходит на фоне полного солнечного затмения — новый язык приведет к тотальному обновлению мира, и это общее место всех манифестов первого авангарда. Впрочем, слепые черные круги, повисшие в небе пустыми окулярами, напоминают о еще не высказанной тогда Батаем идее, что солнце является высшей абстракцией, поскольку смотреть на него прямо невозможно. Во «Встрече друзей» было много пророческого, но и в манифесте Ивана Голля имелось предсказание, сбывшееся целиком и полностью: «Сюрреализм <...> будет интернациональным, он впитает в себя все измы, которые разделяют Европу, и соберет жизненно важные элементы каждого из них».
Сюрреализм до манифестов
Если на роль автора первого манифеста сюрреализма находится несколько претендентов, то роль изобретателя самого слова «surrealisme» давно закреплена за Гийомом Аполлинером. Слово «сюрреализм» впервые возникает в его переписке и сочинениях в 1917 году: он объявляет сюрреалистическими и собственную драму «Груди Тиресия», и дягилевский балет «Парад», из создателей которого (композитор — Эрик Сати, либретто — Жан Кокто, художник — Пабло Пикассо, балетмейстер — Леонид Мясин) только хореограф не будет позднее ассоциироваться с движением сюрреалистов. В предисловии к «Грудям Тиресия» Аполлинер писал: «Для определения своей драмы я воспользовался неологизмом, который мне простится, поскольку такое со мной случается редко, и выдумал прилагательное "сюрреалистическая" — оно не таит в себе никакого символического смысла, <...> но довольно точно определяет тенденцию в искусстве, которая хоть и не нова, как не ново ничто под солнцем, но, во всяком случае, никогда еще не служила для того, чтобы сформулировать какое-либо кредо, какую-либо художественную или литературную гипотезу».
Тенденция и верно была не нова: обе постановки — и дягилевская, и аполлинеровская — более походили на дадаистские провокации, дразнили публику и, разумеется, произвели страшный скандал. Впрочем, «Груди Тиресия», хулиганская пародия на Аристофана, где обыгрываются темы феминизма, чайлдфри и гендерной флюидности, могут произвести скандал и сегодня, по крайней мере, в некоторых странах. Что же касается «Русских балетов», то не пройдет и десяти лет, как Бретон с Арагоном попытаются сорвать парижскую премьеру «Ромео и Джульетты» в Театре Сары Бернар, потому что декорации к спектаклю Сергей Дягилев заказал сюрреалистам Максу Эрнсту и Жоану Миро: художников, отдавших «мысль в услужение капиталу», подвергнут партийной проработке за оппортунизм и предательство революционных идеалов (но изгонять не станут).
Дягилев тогда вызвал полицию: боевой отряд сюрреалистов, свистевших в свистки и разбрасывавших прокламации против буржуйства в искусстве, отпечатанные на красной, как шарф Бретона с картины Эрнста, бумаге, вывели из зала жандармы и англичане — национальная группа поддержки прибыла на премьеру балета английского композитора Константа Ламберта и решила, что французы пытаются омрачить триумф британской музы. По свидетельству присутствовавшего на премьере в Париже Сергея Прокофьева (его собственные «Ромео и Джульетта» появятся через десять с лишним лет), антибуржуазный пафос сюрреалистов не оценили самые демократические ряды публики: «Больше всего протестовала против демонстрации как раз галерка, которая, купив за свои заработанные деньги билеты, не желала, чтобы ей мешали».
Сюрреализм и сюрреализмы
Полиция быстро разобралась с сюрреалистами в Театре Сары Бернар, но с тем, что такое сюрреализм и в чем состоят его «магические секреты», вот уже сто лет не могут разобраться критики, историки всевозможных искусств и сами мастера оных, бесконечно споря о словах и о границах между истинным и ложным. Отчасти в этом повинен сам Бретон, который считал свою точку зрения на сюрреалистическую революцию единственно верной, гнал из партии за мельчайшее отступничество, с изумительной точностью копируя столь чуждую ему ВКП(б), и порядком всем надоел. Так надоел, что в 1964 году, когда в одной парижской галерее устроят выставку к 40-летию движения, его забудут пригласить, как будто бы он давно умер. Бретон, разумеется, тут же напомнит о себе, выступив с задиристым памфлетом против своих «ликвидаторов».
Бретон мог бы сказать «сюрреализм — это я», если бы не настаивал на коллективности сюрреалистического творчества. Недаром первым памятником автоматического письма, отталкивающегося от фрейдовского метода свободных ассоциаций, считается поэтический сборник «Магнитные поля», написанный им вместе с Филиппом Супо в 1919 году («Пастухом их слов было смутное молчание металлов»). А самой известной из сюрреалистических практик — игра «изысканный труп», когда стихи или рисунки создаются сообща и наугад, так что тот, кто дописывает слова или дорисовывает фигуры, не видит, что было написано или нарисовано его соавторами-предшественниками («Обезглавленные звезды, взбешенные, что их больше не существует, носятся по окружности, в центре которой свернутая, а потом развернутая программа кино»).
Сюрреалисты начнут препарировать «изысканный труп» в 1925 году, когда на страницах «Сюрреалистической революции» будет обсуждаться вопрос, насколько вообще уместна живопись, коль скоро она по своей природе буржуазна и индивидуалистична, то есть несовместима с революционными и коллективистскими принципами движения, и не пора ли ей уступить дорогу фотографии, Бретон примется за «Сюрреализм и живопись», вставая на защиту последней, а в молодой парижской галерее «Пьер» откроется первая выставка сюрреалистических картин. Джорджо де Кирико, Пабло Пикассо, Ханс Арп, Макс Эрнст, Жоан Миро, Пауль Клее, Ман Рей и Андре Массон — вначале канон сюрреализма в пластических искусствах выглядел так. Рене Магритт, Ив Танги, Сальвадор Дали, Альберто Джакометти и Ханс Белльмер присоединятся позднее. Кажется, Бретон не разочаруется только в Миро, Танги и Эрнсте. И, как ни странно, в Марселе Дюшане, плевавшем на Голлев «реванш глаза» и отрицавшем ретинальное искусство. Бретон пригласит его делать экспозиции двух итоговых выставок движения: парижская Международная выставка сюрреализма 1938 года превратится в темную угольную пещеру, где произведения художников надо будет рассматривать, подсвечивая их карманными фонариками, а «Первые документы сюрреализма», показанные в 1942 году в Нью-Йорке, попадут в сети веревочной паутины — Дюшан натянет в зале два с половиной километра шпагата, так что к экспонатам будет не подойти.
Дело, видимо, не столько в скептическом отношении раннего сюрреализма к живописи, сколько в эстетской разборчивости, но Миро станет одним из немногих художников, чья картина украсит «Стену мастерской» Бретона (речь о «Голове» 1927 года, похожей не то на череп в профиль, не то на палитру). Невообразимая коллекция, собиравшаяся на протяжении сорока с лишним лет, кунсткамера, где музей современного искусства встречается с музеями этнографии и естественной истории, инсталляция в пространстве и во времени, алтарь фетишизма и обсессий, автопортрет художника с юности до самой смерти — ныне «Стена мастерской» хранится и выставляется в Центре Помпиду. Тоже своего рода манифест коллективного творчества, одновременно первобытного и природного: маски, идолы, амулеты, куклы и свистульки со всего света перемешаны с морской галькой, раковинами и окаменелостям. Фотографии — при всем ее автоматизме и демократичности — на этой «Стене» практически не нашлось места.
И все же живопись и скульптура обретали сюрреалистических преемников, куда более любезных Бретону: это коллаж и объект, элементы которых соединяются парадоксальным и в идеале случайным образом, подобно Лотреамоновой «встрече швейной машинки с зонтиком на анатомическом столе», а также кукла и манекен, окутанные тайной жути, секса и страха. Автоматическое рисование Массона или картины, написанные им в соавторстве с рассыпавшимся по холсту песком; фроттажи Эрнста, когда предмет, положенный под лист бумаги и натертый грифелем, сам собой проявляется на ней; фюмажи Вольфганга Паалена, рисующего на бумаге или холсте пламенем свечи; рейография Мана Рея, фотография без фотоаппарата, когда объект оставляет след на фоточувствительной бумаге,— все эти техники суть «чистый психический автоматизм». Но в популярном понимании искусство сюрреализма остается фантастической картиной, что пересказывает какой-нибудь сон, скажем, вызванный полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения. Картиной, где вместо реванша глаза торжественно празднуют реванш литературы, изгнанной было из искусства абстракцией. Ведь описания снов лучше даются поэтам — Бретон не уставал доказывать это и в романе «Надя», и в другой любовной лирике.
Определения сюрреализма, от самых узких до самых широких, идут, как на круги на воде, от слова, брошенного Аполлинером и подхваченного Бретоном. В наиболее узком смысле слова — это группа Бретона, которая родилась в Париже в начале 1920-х, на руинах анархистского дада и в оппозиции к техницизму L’Esprit Nouveau (термин «новый дух», так полюбившийся Ле Корбюзье, тоже восходит к Аполлинеру), приобретала новых союзников и теряла старых друзей по воле своего нетерпимого основателя и скончалась в Нью-Йорке в начале 1940-х, куда бежали многие сюрреалисты, а также их попутчики и сочувствующие. Говоря чуть шире, это множество групп, разбросанных по всей Европе и вывезших сюрреализм в обе Америки в преддверии или во время Второй мировой,— Бретон, мечтавший об интернационале наподобие коммунистического, признал, скрепя сердце, лишь брюссельскую, пражскую и белградскую ячейки.
Исторически сюрреализм можно понимать как самое мощное движение в межвоенной европейской художественной культуре, затронувшее кино, театр, музыку, то есть невольно стремившееся к тотальному синтезу искусства. Движение, что возникло на территории поэтики, мгновенно оказалось на территории политики, поскольку в новые времена речи о революции заводят поэтов далеко, и раздиралось политическими противоречиями на фоне сталинских процессов в СССР и гражданской войны в Испании (о ней в визуальном искусстве точнее всех выскажутся именно сюрреалисты — достаточно вспомнить «Струю крови» Массона, «Предчувствие гражданской войны» Дали, «Ангела домашнего очага» Эрнста; в сущности, весь павильон Испании на Всемирной выставке 1937 года был сюрреалистским по духу). Герой Сопротивления Деснос, умирающий в Терезиенштадте, и «жадный до долларов» Дали, поддерживавший Франко до самой смерти диктатора,— вот политические полюса сюрреализма.
Но есть и более широкая историческая перспектива: движение, прерванное войной миров, понесло свою художественную и политическую мудрость по миру, передавая ее путем прямых рукопожатий: от Массона — Джексону Поллоку, от Дюшана — Джозефу Кошуту, от Магритта — Марселю Бродтарсу (а от Бротдарса и Арто — Яну Фабру), от Бретона — негритюду и борцам за независимость Алжира. В этом смысле и «Властелины времени» Рене Лалу, и «Смерть сталинизма в Богемии» Яна Шванкмайера — подлинно сюрреалистическая анимация.
Фрейд, Маркс, психоанализ, коммунизм, анархизм, алхимия, революция, сновидение, сексуальность, влечение к смерти, черный юмор, случайность, ошибка, оговорка, чудесное, двойственность слова и образа, семиотическое удвоение, гипноз, игра, тайнопись знаков, в которой даже самому отчаянному атеисту открываются карты судьбы,— после войны этот словарь сюрреализма разошелся во множестве переизданий. Абстрактный экспрессионизм, информель, «КоБрА», «новые реалисты», поп-арт, «Гутай», леттризм, Ситуационистский интернационал, венский акционизм, концептуальное искусство, «новые дикие», уличная волна, художественно-политический активизм — все сколько-нибудь авангардное в послевоенном мировом искусстве в той или иной степени может возводить свою родословную к сюрреалистам. Однако верно и обратное: все самое пошлое, банальное и натужно-фантастическое в массовой культуре будет гордо зваться «сюром», ссылаясь на сновидческую поэтику Дали.
Принято считать, что в отечественном искусстве сюрреализма не было — у нас было свое всеобъемлющее движение и свой единственно верный метод, соцреализм. Отношение советской критики к парижскому сюрреализму, скорее сочувственное в середине 1920-х, быстро сменится категорическим отрицанием — как к уводящему от реальности и играющему в революцию, слова «сюрреализм» и «абстракция» сделаются синонимами «формализма». В этом отсутствии сюрреализма видят трудности перевода на русский язык западной критической теории. Но если учесть всю сумму определений сюрреализма, то в переводе на русский мы вправе считать им и игры обэриутов, и Юло Соостера, получившего парижскую прививку в тартуском «Палласе» и не сломленного ГУЛАГом, и фантастический лагерный реализм Бориса Свешникова, и Анатолия Осмоловского, перегородившего Большую Никитскую баррикадой в память о мае 1968-го и ситуационистах, и Александра Бренера с Барбарой Шурц, чья разнузданная графика словно бы вырастает из иллюстраций Массона к де Саду. Как, впрочем, и тошнотворный «сюр» ветеранов Малой Грузинской.